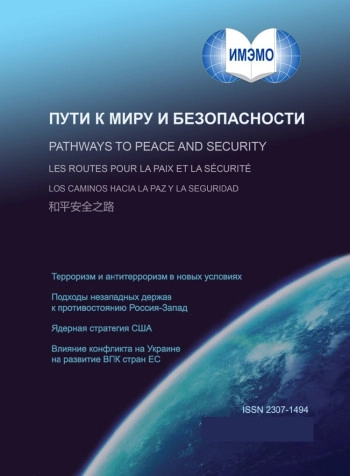Статьи в выпуске: 15
Рост использования частных военных и охранных компаний (ЧВОК), которые получили все большее распространение как в мире в целом, так и на Ближнем Востоке и в Северной Африке, часто рассматривается сквозь черно-белую призму. При этом в фокусе внимания обычно находятся роль и участие ЧВОК в военных действиях, в то время как оказание ими широкого ряда самых разнообразных услуг в сферах логистики, разведки и консультаций по вопросам безопасности часто остается за скобками. Спектр акторов (самих ЧВОК и взаимодействующих с ними игроков), а также оказываемых ими услуг создает сложную и неоднозначную картину в этой сфере, из-за чего иногда трудно оценить эффективность таких компаний. В статье делается попытка сформировать более четкое представление о влиянии, которое ЧВОК оказывают на общую стабильность в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Анализируя различных акторов и основные задачи и функции ЧВОК, автор ставит задачу выяснить, оказывает ли присутствие таких компаний на Ближнем Востоке и в Северной Африке, скорее, негативное или позитивное влияние на безопасности и стабильность в регионе.
Статья посвящена исследованию ключевых частных военных компаний, аффилированных с Турецкой Республикой. В современном мире, в условиях формирования новой архитектуры безопасности, растет роль негосударственных акторов, в число которых входят частные военные компании (ЧВК) и схожие по форме своей деятельности структуры. В Турции отсутствуют законодательство в области ЧВК и общепринятая классификация таких организаций, которые, однако, оказывают существенное влияние на внешнеполитическую деятельность и политику безопасности своей страны. Основные подходы турецких аналитиков к классификации ЧВК во многом схожи с принятыми на Западе и сводятся к делению их на поставщиков военных услуг, военные консалтинговые компании и компании по оказанию военной помощи. Выявлено, что бывшими турецкими военными сформировано несколько структур, подобных ЧВК, наиболее известными из которых являются “SADAT” и быстро растущая “Akademi Sancak”. Эти структуры не позиционируют себя как боевые, несмотря на имеющиеся данные об участии сотрудников, в частности, “SADAT” в конфликтах в Ливии, Сирии и других регионах. В то же время в турецком общественно-политическом дискурсе “SADAT” часто рассматривается как «теневая армия» правительства из-за приписываемых этой компании связей с властной элитой Турции. Авторы приходят к выводу, что частные военные компании - относительно новый феномен для Турции. При этом многие турецкие эксперты, а также руководители ЧВК выражают уверенность в необходимости развития данного направления военной деятельности, поскольку ЧВК могут реализовывать ряд важных внешнеполитических задач и служить вспомогательной силой для государства и вооруженных сил Турции.
В истории было немало событий, связанных с решением широких политических, экономических и военных задач силами наемников или путем привлечения частных военных компаний (ЧВК). Они все активнее применяются в современных военных конфликтах как локального, так и более масштабного характера. ЧВК используются для решения широкого спектра задач, растет их социально-политическая и силовая роль в продвижении различных интересов, в т. ч. средствами вооруженной борьбы. Сложность современных международных отношений и нарастание экономического, технического, информационного, политического, военного и иных видов противоборства подтверждают актуальность частных военных компаний и расширение их влияния на социальную реальность. При этом особенности, характеристики и закономерности функционирования ЧВК не сформулированы на научном уровне. Опыт концептуализации самогó понятия «частные военные компании» также нельзя признать успешным. Те немногие научные исследования ЧВК, которые существуют, в основном посвящены правовым основам их деятельности, а также запретам и ограничениям на нее. Роль ЧВК на современном этапе требует концептуализации этого феномена c учетом комплексной совокупности его политических, экономических, военных, охранных, правовых, информационных, этических, социально-демографических, социально-адаптационных и иных аспектов.
Социальное явление наемничества развивается многие столетия, но в XX-XXI веках оно приобрело новое измерение в результате появления частных военных и охранных компаний (ЧВК/ЧВОК). Их участие в конфликтах - от войн эпохи деколонизации в Африке и впоследствии в Афганистане, Ираке, Ливии вплоть до специальной военной операции на Украине - носило и носит весьма масштабный характер и создает новые правовые прецеденты. Классическая Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников (1989 г.) не справляется с задачей международно-правового регулирования деятельности разросшихся ЧВК, поскольку она создавалась для пресечения индивидуального наемничества, а не корпоративного бизнеса по оказанию частных военных и охранных услуг. В последние десятилетия наметились противостояние и конкуренция механизма саморегулирования ЧВК (Инициатива Монтрё и Кодекс поведения компаний), с одной стороны, и разработанного в ООН проекта юридически обязывающей Конвенции ООН о ЧВК, с другой стороны. В данной статье анализируются и обсуждаются принципы регулирования, заложенные в проект Конвенции ООН.
Военные конфликты в Сирии и Нагорном Карабахе показали все возрастающее значение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поле боя. Они оказывают значительное влияние на характер и формы вооруженной борьбы. В войнах будущего прогнозируется массовое многоэтапное и многоэшелонированное применение групп разведывательных, ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов, что сильно усложнит выполнение задач противовоздушной обороны. Важной тенденцией является все большая доступность различных БПЛА как для крупных, так и для небольших государств и даже негосударственных вооруженных формирований. Это, в свою очередь, вызывает риск неконтролируемого экспорта технологий беспилотных летательных аппаратов.
Сложившаяся после окончания «холодной войны» система контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ), которая опиралась на Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), в 2000-е - начале 2020-х годов переживала череду кризисов. Очередное обострение отношений между Россией и НАТО лишь завершило процесс распада этой системы, обусловленный целым рядом разноплановых факторов. Кризис КОВЕ был вызван долгосрочными изменениями военно-политического, военно-стратегического и военно-технического характера. Несмотря на всю сложность военно-политических отношений между Россией и НАТО на современном этапе, авторы полагают, что уже сейчас целесообразно заняться поиском будущих путей к восстановлению режима КОВЕ, которые были бы оптимальны с точки зрения складывающегося стратегического ландшафта в евроатлантическом регионе и отвечали бы интересам безопасности сторон. Сделан вывод о том, что отправной точкой для создания нового режима КОВЕ могли бы послужить договоренности по ударным системам средней дальности разных типов базирования без проведения различий между ядерными и обычными системами. Подобное решение достижимо, в первую очередь, в режиме двухсторонних российско-американских переговоров, которые упростили бы задачу достижения эффективных договоренностей и дали бы стимул к последующим переговорам по ядерным вооружениям в условиях нормализации отношений между сторонами.
Начало специальной военной операции РФ на Украине привело к закрытию достаточно большой акватории северо-западной части Черного моря и объявлению ее «временно опасным районом» со стороны России, где она не могла гарантировать безопасность судоходства. В результате были затронуты интересы как Украины, так и нейтральных государств в области морской торговли. По просьбе генерального секретаря ООН Российская Федерация сформировала морской коридор для безопасной транспортировки украинского зерна и другой продукции с целью решения проблемы голода и продовольственной безопасности особо уязвимых с этой точки зрения стран. Реализация этого проекта продолжалась до тех пор, пока у России не возникли резонные обвинения в том, что мирный дух «зерновой сделки» всецело нарушается украинской стороной. Выход РФ из этой сделки ознаменовал возвращение режима временно опасного района, который Украина и ее зарубежные партнеры поспешили объявить полноценной морской блокадой. Формирование такого «закрытого» для судоходства района и обвинения в блокаде требуют правового анализа ситуации.
Китай уделяет большое внимание проблемам безопасности, решение которых он считает необходимой составляющей устойчивого развития. В статье анализируются новые тенденции во внешней политике и политике безопасности Китая в Африке. Китай, соблюдающий принцип невмешательства во внутренние дела африканских государств, не участвует в вооруженном противостоянии, но выступает влиятельным игроком глобальной дипломатии. Рассматриваются угрозы, связанные с конфликтами и террористическими актами, где мишенями часто становятся китайские компании, работающие на континенте. Цель статьи - оценить масштабы угрозы и проанализировать меры, принятые Пекином для защиты своих граждан и бизнеса за рубежом. Эти меры и стратегии включают участие КНР в миротворческих операциях в Африке, а также создание 50 новых программ безопасности в соответствии с Планом действий Китая и Африки на 2019-2021 годы. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) модернизировала свой военный учебный центр подготовки международных миротворцев, среди которых много африканцев. Ежегодно несколько сотен африканских офицеров проходят обучение в таких школах, как Китайская военная академия, Даляньская военно-морская академия, Авиационная академия ВВС и Национальный университет обороны НОАК. ВМС НОАК участвуют в международных антипиратских патрулях в Аденском и Гвинейском заливах. Авторы рассматривают расширение морского сотрудничества Китая с Африкой посредством патрулирования в рамках борьбы с пиратством как часть геополитической и экономической стратегии КНР. Миротворческие миссии часто дополняются посреднической деятельностью Китая на высоком уровне: Пекин выступил с инициативами по урегулированию конфликтов в Демократической Республике Конго, Судане, Южном Судане, Зимбабве и предложил выступить посредником в пограничном конфликте между Эритреей и Джибути. Наконец, анализируется и роль Китая в качестве одного из основных поставщиков оружия в страны Африки к югу от Сахары.
В статье на основе материалов министерства обороны Франции, а также данных французских и российских экспертов, представленных в СМИ, проведен обзор актуального состояния и перспектив присутствия вооруженных сил Пятой республики на африканском континенте. Рассматривается процесс изменения дислокации и численности воинских контингентов вооруженных сил в связи с широким антифранцузским движением в ряде стран западной Тропической Африки. Острая актуальность изучения этого процесса обусловлена тем, что в последние годы в Африке происходят глобальные геополитические изменения, и Россия играет в этом важную роль. Фактор присутствия в регионе российских частных военных компаний сыграл свою роль в том, что французские войска были изгнаны из Центральноафриканской республики, Буркина-Фасо и Мали. Свержение ориентированных на Францию коррумпированных режимов прогрессивными элитами вооруженных сил, поддержанное широкими народными массами этих стран, привело к завершению французской войсковой операции «Бархан» и сокращению численности французских контингентов и военных баз в регионе южнее Сахары. Бурные события, происходящие в Нигере и Габоне, могут стать причиной дальнейшего сокращения влияния Пятой республики в Сахеле и, напротив, яркой вехой «возвращения» России в этот стратегически значимый регион.
В статье рассматриваются практические аспекты участия Южно-Африканской Республики в работе БРИКС как одного из ключевых форматов современной сетевой дипломатии. Исследование опирается на данные об экономических аспектах участия ЮАР в БРИКС. Также анализируются предпринимаемые Преторией политические шаги, особенно те инициативы, которые были выдвинуты ЮАР во время своего председательства в БРИКС. Сделан вывод о том, что интерес ЮАР к БРИКС в первую очередь связан со стремлением Претории к повышению своего престижа как региональной державы. Этот приоритет вряд ли отойдет на второй план даже в связи с расширением БРИКС по итогам саммита в Йоханнесбурге 2023 г. Расширение БРИКС за счет Эфиопии и Египта учитывает интересы ЮАР и не несет угрозы ее статусу ключевого представителя этого объединения в Африке.
В статье исследуются причины и предпосылки политического кризиса, ставшего почти перманентным в период независимого развития Буркина-Фасо. Одна из самых бедных африканских стран пережила восемь военных переворотов, из них два в 2022 г. К концу 2010-х годов она оказалась в эпицентре сахельского кризиса, поменяла внешнеполитическую ориентацию, отказавшись от неоколониальной зависимости от Франции, и приняла несколько планов экономического развития. В центре внимания авторов - военно-политические и социально-экономические факторы возникновения политического кризиса на фоне ослабления государственной власти, прежде всего в периферийных районах, охваченных вооруженным конфликтом. Рассматриваются проблемы вмешательства внешних игроков в политическую жизнь Буркина-Фасо. Анализируется реакция Экономического сообщества стран Западной Африки на череду военных переворотов в стране. Особое внимание уделяется роли в текущем конфликте с исламистами в северных регионах страны племенных ополчений - групп самообороны «Коглвеого» и др. Отмечается, что в районах, находящихся под контролем повстанцев или, напротив, «проправительственных», но негосударственных субъектов (ополчений), быстрыми темпами развивается экономика войны, а население создает новые, альтернативные государственным, «органы местного самоуправления» под руководством полевых командиров. Сделан вывод о том, что ситуация в стране напоминает замкнутый круг: сменяющие друг друга правительства из-за политической нестабильности не могут реализовывать проекты развития, тогда как слабость экономического развития, в свою очередь, обусловливает политическую нестабильность. В то же время начавшееся укрепление контактов между Буркина-Фасо и Россией внушает жителям западноафриканской страны надежду на разрешение многолетнего военно-политического кризиса в недалеком будущем.
Произошедший в Нигере летом 2023 г. военный переворот поставил на повестку дня несколько вопросов. Насколько данные события вписываются в траекторию развития страны? Какую роль в упомянутых событиях играют иностранное влияние, внутриполитические факторы и протестные движения? Каковы перспективы выхода Нигера из вызванного переворотом кризиса? Евроцентричная концептуализация событий 2023 г. в научной литературе и СМИ основана на стереотипах, не только мешающих пониманию происходящего в странах Центрального Сахеля, но и ведущих к формированию ошибочной политики. В соответствии с выработанными на Западе стандартами, Нигер классифицируется как «несостоявшееся» или «слабое» государство, однако такой подход плохо соответствует африканским социальным и экономическим реалиям. Статья предлагает альтернативную перспективу для анализа нынешнего кризиса. В ней отмечается, что хотя иностранное присутствие оказало существенное влияние на развитие данного кризиса, не менее пагубные последствия имела силовая политика властей Нигера в ходе борьбы с сепаратизмом. В рамках этой борьбы был сделан сильный упор на поощрение виджилантизма как инструмента разрешения межобщинных конфликтов. Представляется маловероятным, что у военных Нигера в обозримой перспективе имеется реальная альтернатива этим методам, поощрявшимся западными партнерами в контексте борьбы с преувеличенной проблемой «джихадизма».
Саммит БРИКС 2023 г. положил начало масштабному расширению блока: с 1 января 2024 г. в ядро БРИКС вошли пять новых членов. Хотя геополитический вес группировки увеличился, ее экономическая повестка остается расплывчатой. У некоторых крупных развивающихся стран пока сохраняются сомнения относительно вступления в БРИКС: так, Аргентина после президентских выборов 2023 г. заявила, что не станет членом объединения. Более фундаментальной проблемой является преодоление раскола между Индией и Китаем, с тем, чтобы улучшить позиции блока на Глобальном Юге. БРИКС нуждается в амбициозной программе либерализации торговли, которая будет благоприятствовать развивающимся экономикам. Это могло бы стать основой эволюции платформы БРИКС+ по многим направлениям, включая путь «интеграции интеграций» между теми региональными интеграционными блоками, в состав которых входят страны БРИКС. В более долгосрочной перспективе форматы БРИКС и БРИКС+ могут быть дополнены форматом БРИКС++ с участием развитых экономик, региональных блоков и их институтов развития.
В статье исследуется влияние динамики американской экономической помощи и торгово-инвестиционных отношений США с той или иной страной на ее солидарность с позицией Вашингтона при голосовании в Генеральной ассамблее ООН. Прежде всего, рассматриваются подходы демократов и республиканцев к финансированию ООН в связи с голосованием в Генеральной ассамблее. Следует отметить, что демократы более склонны поддерживать многосторонние институты и политику, в то время как республиканцы исторически отдают предпочтение одностороннему подходу во внешней политике. Вместе с тем обе партии последовательно отдают приоритет определенным странам при распределении американского финансирования в рамках ООН. Статистические данные о финансовых потоках, поступающих в многосторонние институты, а также о двусторонней внешней помощи, торговле и инвестициях США анализируются на предмет того, чтобы выявить степень влияния экономических связей на склонность государств-членов ООН увязывать свое голосование на Генеральной ассамблее с позицией Вашингтона. На этой основе сделан вывод о том, что экономические отношения с США не оказывают существенного влияния на склонность государств-членов ООН солидаризироваться с Вашингтоном при голосовании в рамках Генеральной ассамблеи. Выделена группа из 58 государств, которые в течение 25 лет (в 1996–2021 годах) обнаружили растущую склонность солидаризироваться с США в тех случаях, когда позиция Вашингтона отличалась от позиции большинства членов ООН. Тем не менее, рост американской помощи, торговли и инвестиций в страны этой группы в основном обусловлен соответствующими показателями лишь 13 основных экономических партнеров и получателей помощи США. Следует отметить, что поведение этих 13 стран при голосовании в значительной мере схоже с поведением остальных членов той же фокус-группы из 58 государств.
В статье исследуется вопрос о том, должна ли реформа ООН (и насколько) уделять приоритетное внимание структурам и modus operandi на уровне принятия решений, для того, чтобы обеспечить выполнение ООН своей роли как ведущей мировой совещательной организации, обладающей требуемой степенью мудростью и видением для руководства ее резко возросшей оперативной деятельностью. По мнению автора, главным тестом для ООН в сфере поддержания международного мира и безопасности служит не ее эффективность в деле мобилизации ресурсов в сферах оказания гуманитарной помощи, миротворчества и т. п., а именно качество принятия решений на высшем уровне по предотвращению перерастания политических кризисов в гуманитарные катастрофы и вооруженные конфликты. В статье показан контраст между двумя из моделей реформы ООН. Первая из них – это амбициозный план общесистемной (ре)организации структуры ООН, основанный на идее перебалансировки ее основных органов в виде «конструкции из трех советов», который был в числе предложений на рассмотрении Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам в середине 2000-х годов. Хотя основные положения этого плана тогда не были приняты, а частично учтенные положения привели лишь к половинчатой реформе, из данного опыта можно извлечь уроки, полезные для текущих подходов к реформе ООН. Вторая, гораздо более простая модель касается лишь остро дискуссионного вопроса о составе Совета Безопасности ООН. В статье предложен умеренный и прагматичный подход, который не затрагивает право вето постоянных членов СБ ООН. Он предполагает расширение лишь категории непостоянных членов и небольшую поправку в Устав ООН, разрешающую переизбрание непостоянного члена ООН сразу после окончания его срока, т. е. допускающую возможность «де-факто постоянного членства». В рамках текущего, постепенного подхода к реформированию ООН, который движим конъюнктурным политическим «спросом», не носит системного характера и, по оценке автора, сохранится и в дальнейшем, вторая модель, тем не менее, рассматривается как вполне реалистичная.